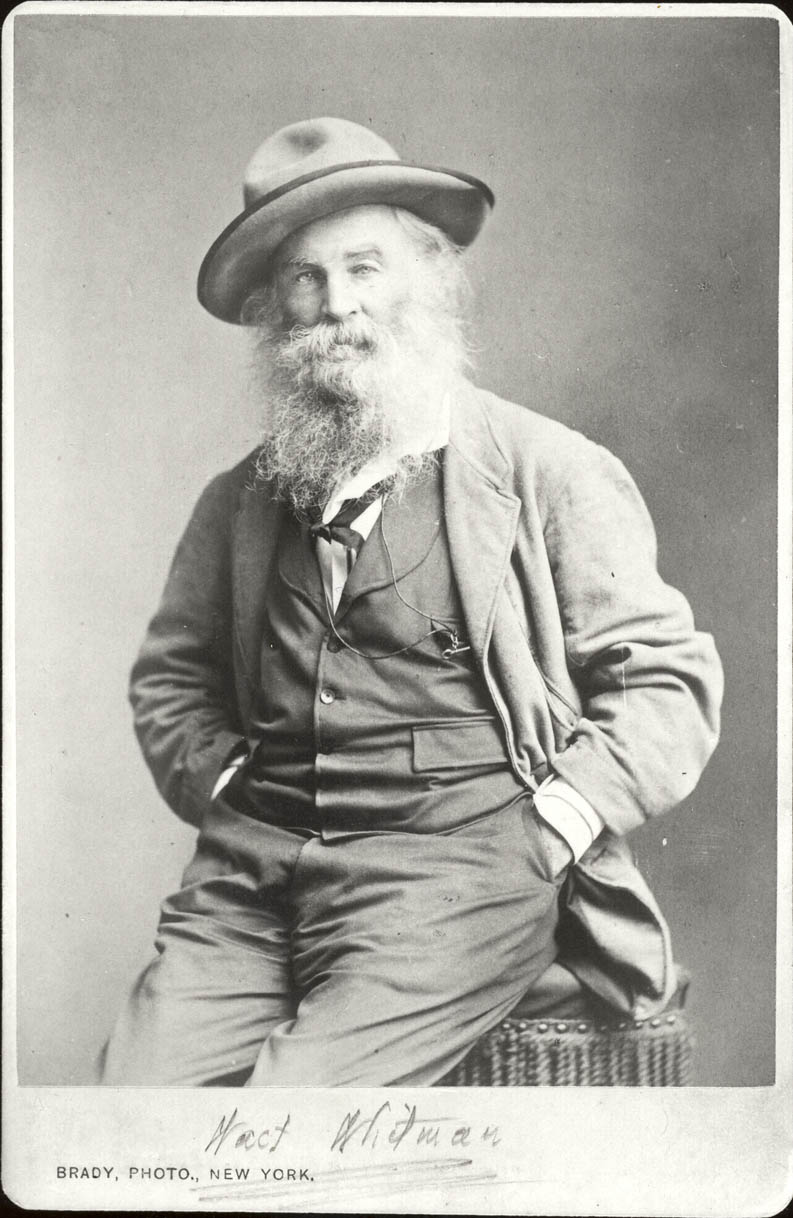После неторопливого и лиричного повествовании о богатой и одинокой женщине, тайно любующейся купанием двадцати восьми молодых мужчин, двенадцатое стихотворение кажется быстрым и спонтанным - как если бы прекрасные купальщики спешно разбрелись по сторонам, возвратившись к своим каждодневным обязанностям.
За их дальнейшей судьбой поэт наблюдает так же пристально, как и его героиня в предшествующем стихотворении. Вот один из мужчин оборачивается «подручным мясника, - сбрасывающим - залитую кровью одежду, - и бесстрастно – затачивающим ножи» для пролития новой крови. «Профессиональная принадлежность» юноши прослеживается и в дальнейшем его описании. Речь мясника «остра на язык» (в английском оригинале Уитмен избирает французское слово «repartee» - казалось бы, не слишком уместное для характеристики говора мясника, ибо прежде оно соотносилось лишь с речью господского класса – но именно этим поэт подчеркивает, что для Слова, как и для чувства в предыдущем повествовании, классовых границ нет – прим. переводчика) – и равно остры его заточенные инструменты, коими он разит не хуже, чем словцом. На глазах у поэта и читателей молодой мясник забавы ради пускается в лихой зажигательный пляс (помесь шаффла и брейкдауна – наиболее быстрых и энергичных танцев афро-американской культуры). Так, незаметно для самого себя, в ритме танца он пересекает все культурные – до селе разграничительные – рубежи, на стыке которых буйным цветом разрастется джазовая, блюзовая и хип-хоп культура.
Далее Уитмен сосредотачивает внимание на кузнецах за их нелегкой работой. Поэт восхищается сильными, мускулистыми телами; выверенными движениями, придающими работе неповторимый ритм и окрас; «гибкими станами под стать могучим рукам», словно вылепленными скульптором, которым, в некотором роде, и является каждый из кузнецов. Мужчины «окружают наковальню» (в оригинале «environ» - «окружать» - содержит в себе другое английское слово - «iron», в переводе означающее «железо», что визуально усиливает эффект – прим.переводчика), и читатель видит, как расплавленный - из печи - металл меняет форму под их тяжелыми молотами. Тела и руки кузнецов движутся подобно гипнотическим маятникам - медленно, уверенно и точно, оттого «каждый бьет, куда надо». Так и Уитмен, молотом своего поэтического дара претворяет слова в метры и ритмы, выплавляет поэзию из горна, прозвание которому – мир.
Э. Ф.
Привычный ракурс описания человеческого труда – в его стремительности и нескончаемости, поту и грязи, унылости и усталости – играючи смещается Уитменом. Между портретными зарисовками острого на словцо, бойко пляшущего юноши-мясника и могучими кузнецами с молотами в руках красной нитью проходит так и не высказанный вопрос: что есть работа? Если она – то, что определяет нашу сущность - по крайней мере, частично - кто же таков поэт, предпочитающий, по его собственным словам, «праздно бродить» по миру? Не одно ли его появление в кузнице вносит новые акценты в чей-то труд? Вот он стоит на пороге, между жаром раскаленного горна и жаром большого мира за спиной, трудом – именно трудом! - своих поэтических наблюдений их связующий. С каким насаждением он следит за работой кузнецов, как точно воспроизводит в своих строках мерный стук их молотов, из-под которых выходят предметы, нас окружающие! Повторяющиеся слова в предпоследней строке создают почти гипнотический эффект, должный пробудить в читателях воспоминания о том мгновении, «которое прекрасно», когда и они, увлеченные любимым делом, забывали самое себя.
Да, всякий труд тяжел – и это неоспоримо, но, как в философии всегда есть место трансцендентному, так и во всякой рутинной работе заложен свой особый ритм (а что есть ритм, если не повторение?), способный однажды привести в экстаз. Именно под его воздействием кузнецы, отбивающие молотами такт на наковальне, становятся не столько отдельными лицами, сколько единой сущностью. Именно под его воздействием – усталые и утомленные – люди все-таки танцуют шаффл и брейкдаун, меняющие пульсацию не только танцоров, но и мира, где они бытуют. Именно под его воздействием писатели «окружают наковальню» языка – нашего общего наследия – где куются слова в поисках собственной поэтической формы, в которой однажды застынет почерк поэта.
К. М
А какой труд избрали Вы для себя для постижения красоты мира или обретения власти над ним? Чем был мотивирован этот выбор?