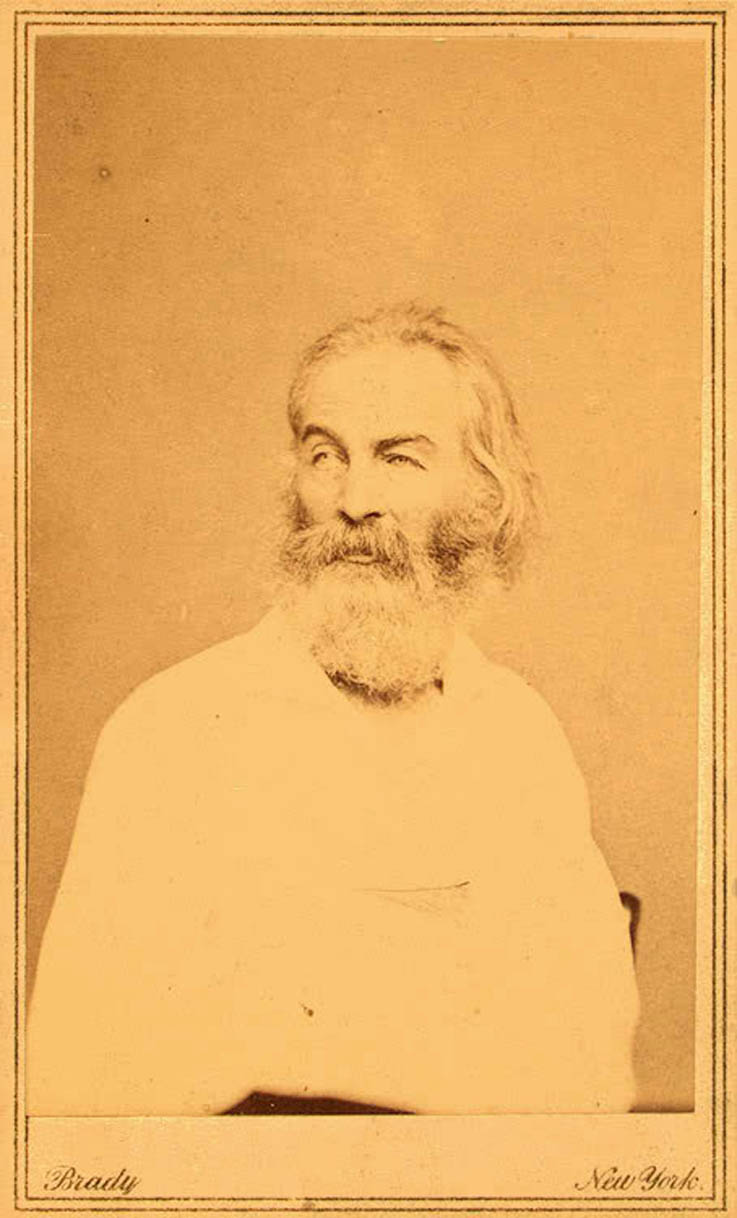Одиннадцатое стихотворение – необычное для восприятия и оттого еще более запоминающееся – до сих пор порождает множество споров, равно как число «двадцать восемь», трижды акцентируемое Уитменом, было и есть камнем преткновения для литературоведов прошлых и нынешних лет. Одни утверждают, что «двадцать восемь» символизировало число штатов Америки – в ту пору еще не соединенных. Эта версия, однако, не выдерживает исторической проверки, так как количество штатов перестало равняться двадцати восьми уже после 1845 года, когда был аннексирован Техас (далее: в 1846-м штатом стала Айова, в 1848-м – Висконсин, 1850 – Калифорния), а к моменту написания поэмы в Америке был уже тридцать один штат.
Другие исследователи творчества поэта узревают в этом числе аллюзии к лунному циклу (что также довольно сомнительно, ибо, как известно, в действительности лунный цикл варьируется от 29 до 30 дней).
Третьи обнаруживают в нем отсылки к египетской мифологии, которую некоторое время изучал поэт (согласно мифам, Осирис был убит на двадцать восьмой день своего правления, а его тело было разрублено на двадцать восемь частей, прежде чем было собрано воедино богиней Исидой).
И, наконец, встречаются среди литературоведов и такие, кто ассоциирует загадочное «двадцать восемь» с… менструальным циклом.
Столь разные версии, как ни странно, легко выстраиваются в единую символическую цепочку: плодородия, соития, рождения, воскрешения – все то, что недоступно "одинокой" женщине.
Так или иначе, чтобы бы не подразумевал Уитмен этим числом (если вообще что-то подразумевал), но в целом стихотворение вновь рисует нам этап преодоления внутренних барьеров – на сей раз гендерных и – в какой-то мере – социальных. Героиня зарисовки – богатая женщина, владелица прекрасного дома (заметим, он даже расположен «на пригорке», стало быть, надо всем остальным), своими стенами отгораживающего ее от общества, оставляющего ее один на один со своим богатством, пышным платьем, которое она носит, и ставнями, за которыми прячется. Но нарастающее в женщине любовное желание не могут сдержать ни двадцать восемь прожитых лет, ни классовые предрассудки, ни стены – оно пробивается через них, через зашторенные окна, через покровы одежд – стоит ей увидеть купающихся в реке молодых, грубоватых в своей простоте, мужчин - двадцать восемь по счету – по одному на каждый одинокий год жизни. Обращаясь к частому сюжету западного искусства – тайное созерцание мужчинами обнаженной красавицы (как-то: Давид и Батшиба, Сусанна и старцы) - Уитмен с легкостью меняет роли и безо всякого осуждения обрисовывает акт скрытого наслаждения, дарованного одним робким взглядом.
Да и сам поэт, равно как и его героиня, отринувшая все условности, бросившаяся на встречу инстинктам, ставшая двадцать девятой, испытавшая – быть может, только в воображении – упоение прикосновения к запретному, вовлекается в описываемую им картину, поглощается ее половодьем, становится тридцатым по счету купальщиком.
Так и каждый читатель – мужчина ли, женщина ли, независимо от социальной принадлежности и даже от сексуальной ориентации – может с легкостью стать тридцать первым в этом перечне прошедших одну и ту же траекторию – от точки одиночества – до точки воссоединения и внутреннего освобождения, при которой любые половые и общественные условности утрачивают всякое значение. Не зря мужчины у Уитмена выглядят несколько женственными: «от висков до ребер» и округлившихся - как при беременности – животов, как если бы половые различия стерлись даже на описательном уровне. Ибо нет большей демократической мощи, чем поэтическое воображение, способное преодолеть любые барьеры: гендерные, религиозные, моральные, классовые, сексуальные - и практически вытолкнуть нас в сферу свободного мышления. И Уитмен преподносит нам этот урок из раза в раз.
Э.Ф.
И вновь поэт следует за своей фантазией, принимающей все более причудливые образы. На сей раз - страсти, воплощенной в богатой женщине, тайком следящей из своего окна за купанием двадцати восьми молодых мужчин - по одному на каждый прожитый ею год. К чему бы ни апеллировал Уитмен этим числом (к лунному календарю, мифам о египетских божествах или даже менструальному циклу) – ответ может быть только один: в нем очевидно множество ипостасей собственного «я», вмещающего и поэта, и его героиню, и его читателя.
«Рука-невидимка, пробегающая по телам купальщиков», принадлежит в данном случае не только женщине, в своих мечтах плещущейся в волнах страсти и ласки вместе с мужчинами, но и читателю, следящему пальцем за строками стихотворения и картинами в нем открывающимися. Сама же поэзия при этом становится процессом и объектом вожделения – а оно-то, как утверждает поэт, единит всех – ибо перешагивает через всякие границы, регламентированные обычаями, традициями и законами. Погружаясь в сию поэзию, как в волны, Уитмен, подобно невинному младенцу, начинает брызгаться ею во все стороны. Его вовсе не заботит, что он намочит рядом стоящих – тем лучше, пусть невольно, но прикоснутся они к той радости, которая много серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Ну, а сам поэт… что ж, он-то, подобно своей героине, всегда готов бросаться навстречу нам – существующим рядом и везде, живущим и умирающим – неважно в реальности ли или только в его строках.
К. М.
Как Вы считаете, насколько далеко должно завлекать воображение в попытке преодоления границ, нас на протяжении жизни «окантовывающих» (как-то: расовая, национальная, религиозная, классовая, сексуальная принадлежности)? Каков результат таковых «походов-за-пределы»? Чувство радости или чувство вины? И почему?